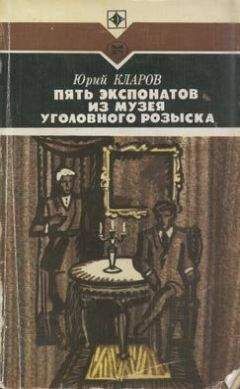Несмотря на внушающую благоговение внешность, хорошо сохранившийся старец никогда не был священнослужителем, хотя переменил на своем веку немало профессий.
Феофан Лукич Севчук служил сторожем, опилочником в трактире на Клочковской, вышибалой в фешенебельном публичном доме, конюхом, лакеем, а последние годы - швейцаром вначале в Коммерческом клубе на Рымарской улице, а затем в особняке фабриканта Бригайлова, где снимал квартиру полковник Винокуров. На этой же квартире полковник в ноябре девятнадцатого был убит...
После освобождения Харькова Красной Армией, когда особняк Бригайлова был занят под рабочий клуб, старик собрал в швейцарской свои вещички и исчез. Сухов, занимавшийся розысками старика еще до моего приезда, ухитрился отыскать его на станции Новая Бавария, где тот обосновался в домике у своего сына, железнодорожного рабочего.
Жизнь на маленькой, тихой станции Феофану Лукичу порядком надоела. Он привык к шуму большого города, к полнокровной, кипучей жизни публичного дома ("Ух и мамзели были - тигры! По сю пору в дрожь кидает!"), к пьяному раздолью трактиров и "господской деликатности".
- Всю жизнь, почитай, в образованности прожил - "Пожалуйте, ваше сиятельство!", "Пардон, мадам!" и прочее. А тут на старости годов и выпить не с кем, чтобы по-деликатному, без матерщины или еще чего такого, доверительно говорил он мне. - Станция - она и есть станция. Пыль да грязь, мастеровщина да необразованность. Не столько людей, сколь блох да тараканов. Оно известно - тоска. С тоски всякая нечисть и заводится. Ну и поезда гудят, будто им шило в зад воткнули. До того гудят, подлые, что не знаешь, чем уши заткнуть. А тут еще колеса - тук-тук, тук-тук. Поживешь так с годок и, не дождамшись смертного часа, живым в гроб на карачках полезешь. Ей-богу!
Я спросил его о Винокурове, который, как мне показалось, был таким же светлым воспоминанием, как и беспорочная служба в публичном доме. Феофан Лукич насупился.
- Ну что о ем сказать? - развел он своими мускулистыми, несмотря на возраст, руками. - Ныне как о таких, как он, говорят? Контра, говорят. Гнида, говорят, белогвардейская, в печенку его, в селезенку и прочие какие ни на есть места. А я так не могу, потому как совесть имею и деликатность в обращении ценю. Хоть в распыл пускайте, а душой не покривлю! Миль пардон!
Успевший где-то дерябнуть стаканчик-другой, Феофан Лукич тут же готов был погибнуть за правду. Он просто рвался в безвестные герои. Но я его не пустил: героев и так хватало, а мне требовались свидетели. Убийство полковника Винокурова до сих пор было загадкой, которую требовалось разгадать до встречи с Жаковичем.
Поэтому я успокоил Севчука, сказав, что ничего, кроме правды, от него не требуется. Более того, я даже пообещал, если он того пожелает, пристроить его вновь на работу в Харькове, дав понять, что, по моему мнению, без таких честных и принципиальных людей, как он, столица Украины теряет свою былую прелесть. Последнему он, кажется, не очень поверил, но успокоился. Расстрела, во всяком случае, больше не требовал: то ли опасался, что я по мягкости характера ни в чем не смогу ему отказать, то ли по-каким-то другим соображениям...
- Продолжайте, Феофан Лукич.
- Кресты, погоны, платочек в духах моченный, волосы с пробором да помадой, усы, сапоги зеркальные - это все было, - признал он. - Полковник, его высокоблагородие... Чего уж там! И революции не одобрял. Скорбел об государе императоре. Всяких там "гражданов" и "товарищев" тоже не признавал. По-старорежимному: "господин", "мадам", "сударыня", "Куда прешь, дубина?!". А душевности не отымешь. И справедливость не отберешь, и деликатность в обращении. Такой и в морду даст - а все одно приятно. Не скажу, что кисель гороховый - строгонький. И выругает иной раз, и порукоприкладствует... Не без этого. Но с понятием. Услужил чем? Вот тебе на чаек Рождество, к примеру, духов день, благовещение или преображение - не сомневайся, и на чай и на водку получишь.
Одно плохо: больно до баб был пылок. Оно-то вроде бы и понятно: мужчина в соку, кровь с молоком, видный из себя, игривый. Чего не побаловаться? Не жеребец на конезаводе: с какой хотит, с той я хороводится. Я был помоложе, тоже спуску женскому полу не давал. Да и сейчас при счастливом случае не безгрешен. Но разум-то господь человеку не зря дал. А он какую посмазливей приметит - все. Будто не полковник, не высокоблагородие, не дворянин столбовой, а кобель, миль пардон, подзаборный. Разве ж так можно? Баба бабой, а голова головой. А он - нет, не мог меру блюсти. Через эту слабость к женскому полу и смерть принял...
- То есть как? - поинтересовался я, чувствуя, что бывший вышибала в публичном доме может стать для нас неиссякаемым источником необходимых сведений.
- А вот так, - загадочно отрезал Феофан Лукич и горестно замотал своей архиепископской головой. - Вспоминать и то не хотится! Муторно от воспоминаний... Эх, Юрий Николаевич, Юрий Николаевич, ваше высокоблагородие! - патетически воскликнул он. - Ни за понюх табаку расстался с жизнею, упокой, господи, душу твою!..
Он перекрестился и от полноты чувств высморкался.
Помолчал горестно.
- Так о чем, бишь, мы?
- О том, что Юрий Николаевич не был жеребцом на конезаводе, - услужливо подсказал я.
- Чего?!
- Ну, о том, что не мог меру блюсти и через свою слабость к женскому полу смерть принял.
- Верно, - сам с собой согласился Феофан Лукич. - Что верно, то верно. Ведь он-то на квартеру к господину Бригайлову не один въехал...
- Разве? - поразился я.
- Не один, - подтвердил он. - С мамзелью въехал, что в полюбовницах у него была. Врать не буду, не приучен: хоть и стерва, а первого разбора мамзель. Без изъяну. Такая и самому государю императору впору. Не хочешь, а засмотришься. Покойника разбередит. Когда я у мадам Бычковой служил, то у ей в заведении, почитай, без малого сотня мамзелей числилась. На все, миль пардон, вкусы: и гнедые тебе, и вороные, и саврасые. И тощенькие, и в теле, и колобком, и мячиком. Сладенькие, с кислинкой... Глянешь ненароком, когда гости съезжаются, - глаза вразбежку и рот на перекос. А вот такой не было. Всем взяла. Но какая ни на есть раскрасавица, а все ж баба. Верно? Всех их всевышний из одного ребра для нас произвел. Вот и обращение с ей имей, как положено: когда приласкай, а когда и побей. А он - нет. Все свое благородное полковничье да дворянское происхождение ей показывает. Не то чтоб нагайкой или кулаком - пальцем не тронул. Туалеты, выезд собственный, кольца, сережки, браслеты всякие... В Киев за цацками ординарца посылал. А она морген фри, нос утри. Вконец разбаловал бабу. Вот и начала с жиру беситься: к другому сбегала любовь крутить. Юрию Николаевичу плюнуть бы. Мало их, что ли? Табунами по Рымарской да по Сумской ходют. А он - нет, заело. Хоть и езживали к нему опосля всякие мамзели, ей хода до себя не закрыл. К ейному полюбовнику в пай вошел. "Когда бы, - говорит, - Феофан, ни приехала, пущай, ежели, понятно, я от другого женского пола свободен". Вот я и пущал ее до Юрия Николаевича. А не послушай его, и греха бы не случилось.
- Какого греха?
- Известно какого - смертоубийства. Ведь не убивцам, а ей дверь открывал той ночью... Когда сыск учиняли опосля, я сыскному офицеру все как было доложил. А без толку. Видать, ейный любовник подмазал, где требовалось. А может статься, моим словам серьезу не придали...
В этом отношении Феофан Лукич мог быть мною доволен. Его показания я принял всерьез. В ту же ночь я устроил ему очную ставку с Вандой Стефановной Ясинской.
Ясинская действительно оказалась красавицей. В отличие от Елены Эгерт, ей почти не был свойственен инстинкт украшательства. Поэтому разговаривать с ней оказалось значительно проще. Она лгала лишь тогда, когда надеялась, что ей поверят, и умела ценить не только свое, но и чужое время.
Очень милая женщина. Пожалуй, полковник был прав, предпочтя ее Эгерт...
III
Я был в более выгодном положении, чем Жакович. Он обо мне лишь слышал. Я же специально собирал о нем сведения с помощью таких мастеров сыска, как Петр Петрович Борин, Хвощиков, Ягудаев и Сухов.
Сын крупнейшего фабриканта, бывшего внуком крепостного крестьянина и польской княжны, предки которой только и делали, что сажали и спихивали с престола неугодных им королей, Анатолий Жакович всю жизнь качался маятником между двумя линиями своей родословной.
Тик-так - демократ, тик-так - аристократ, тик-так - за народ, тик-так наоборот.
Авантюрист по натуре, он относился к породе политических гурманов, которые ни во что не уверовали, но зато все под тем или иным соусом перепробовали: и Штирнера, и Лассаля, и Маркса. Жакович мог смаковать любое кушанье как национальной, так и интернациональной кухни. Но больше всего ему все-таки нравились острые блюда: с уксусом, перцем, динамитом и браунингами.
И таких пикантных кушаний Жакович отведал немало. В девятьсот четвертом - он ярый последователь анархиста Махайского, автора нашумевшей книги "Умственный рабочий". Махайский был умелым поваром и не жалел перца. Он последовательно проводил мысль, что корень всех народных бед не в царизме или капитализме, а в интеллигенции, во всех этих инженерах, врачах, адвокатах и писателях. Многие интеллигенты за революцию? Возможно. Но для чего им нужна революция? Только для того, чтобы, свергнув царизм, захватить власть и стать эксплуататорами рабочего класса.

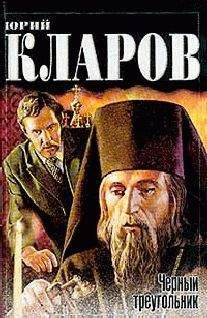
![Юрий Кларов - Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/181018/181018.jpg)